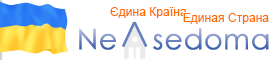|
Календарь
Архив
Популярное
О сайте
Увлекательные фотографии и видео в удобной подаче? Запросто! Теперь мы можем Вас радовать подборками со всех сайтов которые мы посчитали интересными. Видео которое мы отбираем каждый день, убьет много свободного времени и заставит Вас поделится им с Вашими коллегами и друзьями, а в уютное время, Вы покажете это видео своим родественникам. Это все, Невседома. |
 Стояли такие же прекрасные солнечные дни, как сейчас. Апрель, совсем весна. В Лондон, куда уехали Брики, полетела телеграмма; Пастернак, рыдающий в комнате, где лежал самоубийца, мысленно видел, как ее получат, эту телеграмму, как протянут в отчаянии руки и упадут в беспамятстве. Это вряд ли, не на таких напали. Начались разговоры. Исписался? Бабы? Деньги? Сифилис? «Разговоры и сплетни среди публики наивны, пошлы, нелепы, – писал в донесении на имя руководителя секретного отдела ОГПУ агент по кличке Арбузов. – Разговоры в литературно-художественных кругах значительны. Романтическая подкладка совершенно откидывается. Говорят, здесь более серьезная и глубокая причина. В Маяковском перелом произошел уже давно, и он сам не верил в то, что писал, и ненавидел то, что писал». В подтверждение агент приводит цитаты про «роясь в нынешнем окаменевшем г…», про «я себя смирял, становясь на горло собственной песне», «мне агитпроп в зубах навяз» и так далее. И вот еще что пишет Арбузов Агранову: «И если в конце стихотворения [«Во весь голос»] он опять вдруг становится революционным поэтом, то эти определенно фальшивые строки вызваны паническим ужасом перед той мыслью, что советская власть сотрет память о нем из умов современников». А газетная шумиха, связанная со смертью Маяковского, докладывает агент, ее в обществе называют комедией для дураков, чтобы перед заграничным общественным мнением представить смерть Маяковского как смерть революционера, погибшего из-за личной драмы. Что же, значит, в литературно-художественных кругах думали, что не из-за личной? По понятным причинам мемуаристы эту тему не развивали и о том, что Маяковский, заигравшись с властями, оказался в ловушке, не писали. Поэтому мы можем только гадать, что там было на самом деле. Заметим только, что Яков Агранов был вхож в дом Бриков и хорошо знал Маяковского. Это тот самый Агранов, который по поручению Ленина и Дзержинского составлял списки интеллигентов, высланных из СССР в 1922 году, а позже «курировал» творческую публику посредством, так сказать, личной дружбы и агентурных разработок. Потом он возглавит следствие по делу Кирова, а затем он станет одним из главных организаторов процессов 1930-х годов.  "Он был очень одинок. Боялся старости и еще — что исписался. Трудно сходился с людьми, плохо их понимал, часто ошибался". «Это было все задолго до процессов, – глухо напишет потом художница Лавинская. – Знать мы ничего не могли, но инстинктивно чувствовали неладное. Так просто, от личных неудач не мог застрелиться Маяковский». Что она хотела сказать? Что Маяковскому тоже светил процесс или что он почувствовал себя одним из тех, с чьего идеологического благословения пойдут эти процессы? Или что газетная травля, начавшаяся после премьеры «Бани» («Издевательское отношение к нашей действительности <…>весьма показательно», «Продукция у Маяковского на этот раз вышла действительно плохая, и удивительно, как это случилось, что Театр имени Мейерхольда польстился на эту продукцию»)могла кончиться для него чем-то скверным? Потом-то напишут: он прекрасно все понимал, что это – не литературная критика, а организованная сверху кампания, санкционированная его любимой партией его любимых большевиков. Не зря никто из руководящих товарищей не пришел на выставку «20 лет работы», на которой Маяковский отчитывался за все сделанное. Знак свыше? Когда-то автор «Флейты-позвоночника» влюбился в революцию, написал для нее задыхающиеся, фантастические стихи, а потом и не заметил, как от страсти к революции («О, звериная! О, детская! О, копеечная! О, великая!») плавно перешел к браку с ее лучшей подругой – советской властью. И эта подруга вцепилась в него своими толстыми пальцами и потребовала отдать ей душу. Он и отдал – как бы на дело революции. Можно представить себе, какие чувства он испытывал, когда, спустившись с невероятных высот лирической поэзии к чудовищному рифмоплетству («ГПУ – это нашей диктатуры кулак сжатый.Храни пути и речки, кровь и кров, бери врага, секретчики, и крой, КРО! »), обнаружил, что жертва его не оценена, что за отданную партии душу не скажут спасибо ни «Правда», ни «Известия», ни рабочий класс. Тут, конечно, застрелиться – самое оно. Однако же интеллигенция и ближний круг ахали: какая неожиданность! Застрелился, кто бы мог подумать! Потом-то уже вспомнят, что товарищ давно ходил как в воду опущенный, метался между разными РАППами и прочими организациями, менял платформы – кто теперь помнит эти РАППы и эти платформы? И как-то так получится, что никто не спросит: а что с вами, Владимир Владимирович, такое? Никто в глаза не посмотрит и не увидит там... впрочем, что могли увидеть средней руки советские литераторы? Кстати, глаза. «Глаза у него были несравненные, – скажет о нем Юрий Олеша, – большие, черные, с таким взглядом, который, когда мы встречались с ним, казалось, только и составляют единственное, что есть в данную минуту в мире. Ничего, казалось, нет сейчас вокруг вас, только этот взгляд существует». Дальше он пишет, что в ту пору был молод, но пропускал любовное свидание, если мог увидеть Маяковского; и снова про его глаза необыкновенной красоты и силы, про всю его фигуру, привлекавшую всеобщее внимание, и про ощущение чудесной значимости, исходившее от этой фигуры, про то, как Маяковский заполнял собой любое пространство, в котором появлялся, про его метафоры, про его родство с европейской поэзией, про то, как он был добр и даже нежен с друзьями, как гениально острил, и так далее, и тому подобное. В последние полгода, вспоминал Кассиль, Маяковский стал неузнаваем. Говорил, что все ему страшно надоело. Со всеми перессорился. Жаловался на одиночество: «Девочкам нужен только на эстраде». И добавлял неаппетитное: «Есть у вас женщина, которой не противно взять в руки ваши грязные носки? Счастливый вы человек».  "Брики? Это не семья. Чистая правда: Маяковскому было 37, а семьи у него не было, и все отчаянные попытки ее завести раз за разом обламывались..." Главный редактор «Известий» Иван Гронский уж на что, казалось бы, неблизкий Маяковскому человек, а и тот говорил: он был почти невменяемый. И все это видели, и все мне об этом говорили, – рассказывал Гронский, добавляя: – Видимо, Маяковский был болен, был в нем какой-то надлом. Отдохнуть бы ему. Уехать, развеяться. Что ж он визу-то не попросил? Мы бы визу ему бы сделали. Зимой 1930 года ночью, после сдачи номера, Гронский встретил Маяковского на Тверском бульваре. Пошли гулять. Старые большевики, сказал Гронский, к вам, Владимир Владимирович, относятся отрицательно. Ваши расхождения с партией в философско-этических вопросах более глубокие, чем вы думаете. Почему, спросил Маяковский, ведь я же работаю на Советскую власть и на революцию как ломовая лошадь? А просто вы, Владимир Владимирович, футурист и формалист, а партия – она стоит на позициях реализма, с каковых ни один художественно грамотный большевик никогда не сходил. «Может, вы кое в чем и правы», – ответил Маяковский. Плавно перешли на личное. «На Сережку бабы вешались, – сказал Маяковский, имея в виду Есенина, – а от меня бежали и бегут. Я не понимаю почему». И стал перечислять: вот такая-то, и такая-то, и та, и эта… А семьи-то и нет. Брики? Это не семья. Чистая правда: Маяковскому было 37, а семьи у него не было, и все отчаянные попытки ее завести раз за разом обламывались. Последняя его любовь, жена актера Яншина Вероника Полонская, вроде бы и согласилась выйти за него, но пропустить ради него репетицию и остаться прямо сейчас, утром 14 апреля с ним в его комнатушке на Лубянке отказалась. А уже несколько дней, как было написано предсмертное письмо, заряжен был браунинг, и оставалось только нажать курок, что и было сделано, как только Вероника вышла из комнаты. Она закричала и заметалась, а дальше – что дальше? Статья в «Известиях» в лучших советских традициях («оборвалась яркая кипучая жизнь», «боролся за дело рабочего класса», «рабочий класс сохранит в памяти»). Вскрытый череп, мозг, изъятый для изучения. Что поделаешь: раз уж ты советский поэт, будь любезен и мозги свои отдать советскому институту. Чудовищные похороны за счет Моссовета: красный гроб, военный караул, грузовик, зачем-то обитый железом. И носки заграничных ботинок, подбитые железными же подковками, о которых Маяковский говорил: вечные. Эти подковки запомнили те, кто стоял в карауле у гроба. Дым над трубой крематория. Первый день после похорон. В этот день у Бриков был чай, описанный художницей Лавинской. После этого описания многое про общую жизнь Бриков и Маяковского становится понятно. «Все тихо, спокойно, уютно. Брик продолжил прерванный нашим приходом рассказ о загранице. <…> Я сидела истуканом. Все, что угодно, но такого спокойствия я не ожидала!» Надо сказать, что спокойствия-то как раз можно было ожидать. Лиля Юрьевна была женщина привычная, тренированная. Самоубийством Маяковский пугал ее с юности, мало пугал – даже и стрелялся уже 13 лет назад, но случилась осечка. Это все, так сказать, проза, а в стихах тема суицида была раскрыта целиком и полностью. Взять раннюю «Флейту-позвоночник». «Все чаще думаю, – сообщает нам автор во первых строках, – не поставить ли лучше точку пули в своем конце?» Позже Лиля Юрьевна напишет сестре Эльзе, что проклинает свою поездку, что Володя бы ужасно издерган и впадал в истерику от малейшей ерунды, что грипп его измучил и что, будь она в Москве, он остался бы жив. Ну да, ну да, возможно, но не факт. К тому времени она была с Маяковским в довольно прохладных отношениях. Он не оставил ей прощального письма (единственное письмо было адресовано «всем»), не дал телеграммы: приезжай, дорогая, мне плохо. А между тем за несколько дней до 14-го он был совершенно безумен, и это было очевидно всем, кто видел его в эти проклятые дни.  "В последние полгода, вспоминал Лев Кассиль, Маяковский стал неузнаваем. Говорил, что все ему страшно надоело" А что же советская власть, которая, если верить тогдашним разговорам, вполне могла вытравить Маяковского из советской литературы? Советская власть подмяла Маяковского под себя. Она в лице товарища Сталина лично одобрила статью Ивана Гронского о Маяковском (Гронский зачитывал ее по телефону), напечатанную «Известиями» 15 апреля, организовала изучение худших его стихов в школах, благодаря чему поколения несчастных школьников возненавидели Владимира Владимировича лютой и вполне оправданной ненавистью. Советская власть вымарала Лилю Юрьевну с фотографий, на которых они вместе, и постаралась забыть ее имя, как и имена других его женщин: революционному поэту женщины не положены. Советская власть издавала правильные книжки о нем и не печатала неправильные. Ну разве что мизерным тиражом, для узкого круга. Потому что в неправильных-то книжках те, кто его помнил, писали о нем: сумасшедшая, дикая впечатлительность. Необузданная фантазия, склонность все доводить до предела. Во всем чрезмерность. Любая мелочь вырастала в трагедию. Цветы дарил охапками, конфеты – по десять коробок зараз. Очень был мнительный и всегда проверял, нужен ли он или не нужен. Славу любил (слава ведь подтверждение нужности). Очень был одинок. Очень боялся старости. Трудно сходился с людьми, плохо их понимал, часто ошибался. Азартен был невероятно: до утра мог резаться в карты или на бильярде. Отлично одевался, вещи предпочитал заграничные. Был болезненно чистоплотен: руки мыл по сто раз на день. И каким-то чудом при такой брезгливости проглядел свой фатальный союз с властью и чертями у нее на службе.Звезды, Известности / Ностальгия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||